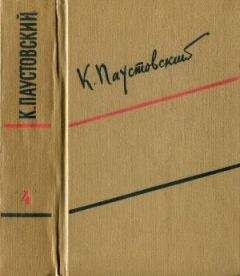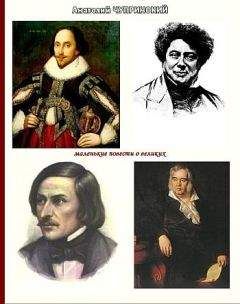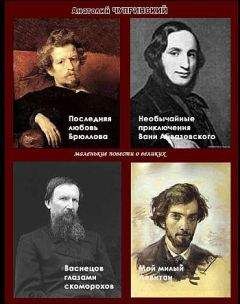Он видел, как Смолов метнулся вслед за ним. На подъеме из лощины, отстреливаясь, они лежали у соседних кустов почти рядом. И у самого дота, перед последним броском, они вынуждены были залечь. На этот раз так близко друг от друга, что Жарков слышал тяжелое дыхание и короткие злые выкрики Смолова.
А в дот, по крутым его ступенькам, Жарков спустился с тяжелой ношей. При последнем броске две пули настигли Смолова. Одна пробила грудь, вторая — плечо.
Жарков едва успел втащить его в дот, чтобы тут же, почти перед самым носом фашистов, захлопнуть массивную, с металлической задвижкой дверь.
— Сеня, — негромко позвал он, припав ухом к груди Смолова.
Смолов не ответил.
Силы вдруг оставили Жаркова, он оцепенело опустился на холодный пол рядом с погибшим разведчиком. Но тут же вспомнил о Вересове, Галимове и Дакоте: дошли ли они? Успели или не успели?..
Жарков поднялся, подошел к амбразуре. И только теперь заметил наступление утра. Снаружи глянул уже на него не мрак, а первая, мягкая и неровная, бледность рассвета.
И там, в белесой дымке, сержант увидел то место, с которого еще вчера они неотрывно наблюдали за этим вот дотом. Всмотревшись, он узнал даже стайку молодых березок, где был его наблюдательный пункт. Вон оттуда, от трех замшелых пней, они вели наблюдение. Это был запасной наблюдательный пункт. На нем они поочередно проводили вечернее, закатное время: к вечеру лучше высвечивалась лощина. А если пойти от пней вправо…
Больше Жарков ничего не успел разглядеть. По амбразуре внезапно ударили из автомата. Припав к пулемету, Жарков стал отвечать.
Он не знал, конечно, что привел в недоумение всех и по ту и по другую сторону ничейной полосы. Не знал, что, как эстафета, полетел от командира роты, против которой был дот, к командиру батальона, оттуда — в полк, а дальше — в дивизию телефонный доклад:
— Товарищ седьмой! Что-то непонятное: фрицы атакуют собственный дот…
— Товарищ тридцатый!..
— Товарищ пятый!..
И тут же, через считанные минуты, — новая телефонная эстафета. Уже без злорадства. Уже с волнением и беспокойством в голосе:
— Над дотом крохотный красный флажок. Там — наши!
И вместе с беспокойством — в голосе немой намек: надо помочь.
Еще никто не знал, что красной, плещущейся над вражеским дотом каплей стал обыкновенный, подбитый сатином жарковский кисет. Но все, кто видел эту каплю, знали: там — наши. Значит, надо помочь…
Гитлеровцы в ярости весь огонь перенесли на флажок и скоро скосили его пулеметными очередями. Но всем, кто был в наших окопах, казалось, будто флажок все еще держится — алый лоскуток с неровными краями, живой, плещущийся на ветру.
Генерал, выслушав по телефону доклад командира полка, восторженно произнес:
— Узнаю Жаркова! — и теплым, но твердым голосом добавил: — Выручить!
— Слушаюсь, товарищ генерал! — почти крикнул в трубку командир полка.
Жарков уже отчетливо различал перебегавших от куста к кусту фашистов. Они лезли напролом, непрерывно вели огонь по амбразуре. Потом внезапно огонь прекратился. Прекратилось и движение в кустах.
Что бы это могло означать?
Жарков перебежал ко второй амбразуре. В ту же минуту все вокруг него наполнилось оранжевыми и сизыми языками огня. Он даже не успел понять, что это была разорвавшаяся граната.
Кажется, он тотчас очнулся. Тяжелые веки с трудом поднялись. И глаза увидели свет. Но тут же взгляд обжегся о черный и холодный зрачок пистолетного дула. Он смотрел на Жаркова не мигая, как глаз змеи. И странно: Жарков даже не пытался увидеть того, кто держал пистолет. Этот зрачок точно заворожил его. «Так вот лежачего и хлопнет, — мелькнуло в голове. — Жалко. Хоть бы встать…»
А тот, кто держал пистолет, как раз этого и требовал. В беспорядочный, вызывающий тошноту звон в ушах врезалось чужое, рычащее слово:
— Ауфштеен!..
Жарков не сразу расслышал его. Оно повторилось. Дуло пистолета придвинулось к самому лицу. Теперь на него неприятно было смотреть, и Жарков перевел взгляд. Он увидел свирепое, в крупных каплях пота белобрысое лицо. Хрипловатый голос надрывно повторял одно и то же слово:
— Ауфштеен!..
«Ауфштеен? Что это значит? Ага, встать!» — Жарков обрадовался. Принять вражескую пулю, конечно, лучше стоя.
Он повернулся со спины на бок, приподнялся на локте. Хотел опереться о землю обеими руками, но правое плечо пронзила вдруг острая боль, сознание снова заволокло туманом.
И все-таки он превозмог себя, сел.
Потом, держась за стену дота, поднялся.
Внезапно, словно подсказал кто, вспыхнула мысль: «А зачем он поднимает меня? Хочет живым взять? Так уж лучше смерть…»
Кажется, все мускулы, каждая жилка собрались в комок, изготовились к прыжку. Только слишком уж много сил ушло на вставание. Мускулы тут же ослабли, ноги подломились, перед глазами мелькнули зрачок ствола, белобрысое лицо, отсыревший, закопченный потолок.
Скользя по шершавой бетонной стене, Жарков упал…
Он очнулся в медсанбате. Очнулся и не поверил своим глазам: перед ним в белых халатах сидели Вересов и Галимов.
— Живы, значит, товарищ сержант? — радостно сверкнул узкими глазами Галимов.
А Вересов ничего не говорил, только счастливо улыбался и быстро-быстро моргал, будто сдерживал подступившие на «самый край» слезы.
— А Дакота? — спросил Жарков.
Разведчики наклонили головы и долго молчали. Потом Жарков сказал:
— Отомстить мы должны за него. И за Смолова. И отомстим. Обязательно… А вам от души спасибо.
— Что вы… За что?.. Это вам… — порывисто отозвался Галимов.
— Как же, из такого пекла выручили. Что ж, еще, знать, походим в разведку. — Жарков помолчал и вдруг не то спросил, не то вслух подумал: — Одного не пойму: почему он не выстрелил?
— Это белобрысый-то? — заговорил накопец и Вересов. — Так он же сам рассказал. Было строго приказано им: если, мол, еще жив (это вы, значит), то не стрелять.
— А вы что ж, прихватили и белобрысого? — спросил Жарков.
— Прихватили на всякий случай, — улыбнулся Вересов. — Я когда на него прыгнул, хотел тут же задушить. А потом думаю: ладно, пригодится. Ну малость, конечно, попортил его. Сдержаться трудно было…
— Молодцы, — проокал, слабо улыбнувшись, Жарков. И, нащупав руки товарищей, по очереди пожал их.
…А врачу в это время звонил комдив:
— Как там Жарков? Можно его беспокоить?.. Партбилет ему надо вручить. А заодно и с наградой поздравить…
Привет старому командующему!.. К кому бы, вы думали, обращены эти слова? Хотите догадаться? И не пытайтесь — все равно не догадаетесь. Потому что слова обращены не к полковнику или генералу. И тем более не к маршалу. Они адресованы мне. Да, да. И произносит их не загрубелый, меченный порохом и пулями ветеран, а совсем еще молодой, с пушком на губах солдат по имени Виктор. Он, разумеется, шутит — вон как разошлись в улыбке его пухлые обветренные щеки. А во мне его шутка всегда открывает и переворачивает крохотную, но такую чудную страничку прошлого. В этот момент я как бы уношусь мысленно назад. А если сказать точнее, то не я уношусь, а до меня начинает эхом доноситься смешная и трогательная история, происшедшая со мной Первого мая 1945 года. — Привет старому командующему… Я, смеясь, хлопаю Виктора по широкому, чуть вислому плечу, спрашиваю, как доехал (он прибыл в краткосрочный отпуск), а сам вспоминаю.
И вспоминается легко. Впрочем, кто не помнит тот Первомай, бывший кануном нашей Победы! Весенними гонцами и вестниками были тогда не подснежники и ландыши — самое волнующее и радостное будили в душе салюты. Сказочными букетами забрасывали они по вечерам московское небо.
А днем светило солнце. Правда, утром Первого мая небо слегка похмурилось, а местами даже плеснуло — где на тротуар, а где на стены и в окна — редкими, но тяжелыми и холодными каплями.
И все-таки май брал свое. Улицы, площади, скверы, сады — все было заполнено детским гомоном, гудками, шинным шелестом, пронзительным трамвайным звоном. И наверное, как раз поэтому, идя Тулинской улицей, я не тотчас понял, что трижды повторившийся женский голос был обращен ко мне:
— Товарищ военный!
И еще раз. А потом по званию:
— Товарищ младший лейтенант!
Я только привыкал тогда к этому своему первому офицерскому имени после училища, но обернулся на зов все-таки быстро. И увидел почти бежавших за мной двух молодых женщин.
Они замялись, подыскивая слова:
— Вы уж извините нас, но…
Снова заминка, и вторая торопится на выручку:
— Мы из детского садика. Понимаете, ребята месяц готовились к параду, а он не пришел.
— К какому параду?
— К первомайскому!
— А кто — он?
— Военный один, — звучал с обидой голос. — Обещал, а вот все нет. Ребята заждались. Вся радость для них пропадет. Может быть, вы бы?
![Анатолий Землянский - После града [Маленькие повести, рассказы]](https://cdn.my-library.info/books/265107/265107.jpg)